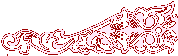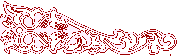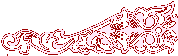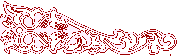|
Глава вторая
Зал судебных заседаний. – Трибунал. – Обвинение. – Главные и второстепенные персонажи. – Публика. – Кулуары. – Толпа у дверей суда. – Столкновения и аресты.
Заседания Революционного Трибунала происходили в большом зале филармонии. На эстраде – стол с красным сукном, внизу, по бокам эстрады,– два стола для стенографисток и для печати. Рядом – двое часовых под ружьем. Против, посредине зала,– небольшой столик, тоже под красным сукном, к которому вызываются подсудимые и свидетели. Сзади него – двое часовых. Слева – стол обвинения, справа – стол защиты, сзади которого, возвышаясь ярусами,– несколько рядов скамей для обвиняемых. Вся остальная часть зала, ложи, балкон отведены для публики.
Слева от стола трибунала, на эстраде же,– стол коменданта. Неизменно перед началом заседаний комендант предлагает снять головные уборы. А затем возглашает обычное:
– Трибунал идет. Прошу встать!
Все встают.
Из средних дверей быстрым, твердым и спокойным шагом выходил председатель трибунала, молодой, лет 30–35, блондин в синем костюме, за ним – члены трибунала, тоже не старше 35 лет, и женщина-секретарь.
Выждав несколько минут, в течение которых публика усаживалась на своих местах, председатель тихим, ровным голосом объявлял открытие или продолжение заседания трибунала.
Невозмутимое спокойствие, граничащее с равнодушием ко всему происходящему,–характерная внешняя черта председателя, определяющая атмосферу всего судебного заседания, носящего деловой характер, с длительной кропотливой работой. Этот характер заседаний, конечно, разочаровал многих и весьма многих из тех, кто желал видеть в процессе сенсационное зрелище, и весьма не гармонировал с шумной, крикливой, экспансивной толпой, часами стоящей у дверей филармонии.
Невозмутимое спокойствие не покидало председателя во все время процесса и даже приговор был произнесен им обычным тихим и спокойным голосом. И лишь роковое слово “расстрелять” было произнесено с нажимом, раздельно...
Начинает допрос обвиняемых сам председатель, допрашивает долго, упорно, не повышая и не понижая голоса. Даже когда подсудимый, в силу акустических условий, не слышит вопроса и просит его повторить, Яковченко, выждав мгновение, повторяет вопрос в той же форме и тем же тоном. В том случае, если ответ на заданный им вопрос, видимо, его не удовлетворяет, он ставит его вновь, лишь слегка изменяя редакцию. Если и на этот раз ответ его не удовлетворяет, он временно отставляет вопрос, задает ряд других с тем, чтобы через некоторое время вернуться к первому.
Это иногда создает впечатление, что председатель спрашивает о старом по забывчивости, и подсудимый с некоторым недоумением говорит:
– Я уже отвечал Революционному Трибуналу... Но Яковченко с такой же настойчивостью и упорством спрашивает снова и снова, без видимых признаков утомления, тогда как длительность допроса одного и того же лица, нередко в течение целого заседания, видимо, сильно утомляла подсудимых.
Окончив допрос, Яковченко передавал подсудимого своим членам; а затем сторонам и в дальнейшее судебное следствие не вмешивался и только иногда заявлял подсудимому:
– Когда говорите, обращайтесь лицом к Революционному Трибуналу.
Остальные члены трибунала вели допрос также в спокойном, ровном тоне. Их участие в допросе подсудимых первой категории было довольно значительным, но затем они допрашивали мало или совсем не допрашивали.
Общий тон спокойствия среди членов трибунала тем сильнее подчеркивался темпераментностью, несдерживаемой горячностью и нервностью представителя общественного обвинения Смирнова, хотя и он иногда с утрированным спокойствием “ловил” обвиняемых в противоречиях с показаниями на предварительном следствии. Часто ведет допрос в тоне нескрываемой иронии, особенно когда допрашиваемый с “высшим образованием”:
– Ведь вы, кажется, человек грамотный, к тому же с высшим образованием, должны были читать, что подписываете.
“Высшее образование” в устах этого представителя общественного обвинения звучит как обстоятельство, усугубляющее вину подсудимого, и он в своей обвинительной речи, в которой чувствовался страстный митинговый оратор, дал этому обстоятельству соответствующее объяснение.
Иногда иронизирует и другой общественный обвинитель – Драницын. При допросах лиц духовного звания он часто вызывает их на вопросы канонического свойства. Вообще канонам на процессе уделялось большое внимание, а также вопросам морали и вопросам старого уголовного права, и подсудимые – профессор уголовного права Новицкий и бывший присяжный поверенный Ковшаров иногда ставились в положение экспертов.
Остальные два общественных обвинителя – Красиков и Крастин – вели допрос в спокойном тоне.
За несколько минут до выхода трибунала конвой выводил подсудимых. Этот “вывод” носил несколько торжественный характер и вызывал в публике молчаливое, но сильное движение; все поднимались со своих мест. Некоторые указывали на это обстоятельство как на своего рода демонстрацию, но это едва ли было так: ведь билеты выдавались с большим выбором, и масса, способная на демонстрацию, толпилась у входных дверей суда. Скорей всего, это было движение любопытства, желания лучше рассмотреть подсудимых, и это движение невольно передавалось всем. Но в его молчаливости чувствовалась взаимно заражающая торжественность. Конечно, среди публики были и такие, которые считали своим долгом встать перед митрополитом, но вставали почти все.
Подсудимые, отделенные от публики конвоем, медленно шли к своим скамьям, жадно отыскивая взглядом своих родственников, близких. Митрополит шел к своему месту тихо, спокойно, опираясь на свой посох. Он – в белом клобуке, на котором блестит маленький крестик, и в темной мантии. Неизменно спокойный, скупой на движения, он занимал свое обычное место – на левом краю скамьи четвертого ряда. Рядом с ним – секретарь Правления православных приходов Н. А. Елачич, за ним – присяжный поверенный Ковшаров, дальше профессор Новицкий... С первого дня, с первого “выхода” подсудимые, заняв места, уже не меняли их. За три недели они, видимо, привыкли к ним, считали их уже “своими” и садились на них, не создавая путаницы, толчеи, выжидая друг друга... Как уже было отмечено, скамьи подсудимых возвышались ярусами с правой стороны зала; слева – такие же скамьи для части публики. И если бы не конвой, трудно было бы сказать, на какой стороне подсудимые, так как в обоих случаях – была группа людей, по первому впечатлению случайно оказавшихся соседями, с тою только разницей, что случайное соседство слева – на одно, два заседания, справа же – на целых три недели; даже двух-трехмесячное сидение в тюрьмах, видимо, мало объединило подсудимых, наложив на лица всех только один общий отпечаток – тот землисто-бледный цвет лица, который всегда бывает в результате тюремного заключения.
По роду и характеру предъявляемых обвинений подсудимые распределяются на группы и категории, но места они занимают вне зависимости от этих группировок. Обвинение сохранило один общий, объединяющий всех подсудимых признак – противодействие изъятию ценностей, и благодаря этому рядом со священнической рясой и монашеским клобуком, рядом с профессурой и студенчеством – женщины с базара, лица ярко уголовного типа, на которых зиждется успех каждого погрома, кем бы и где бы он ни производился, лица неопределенных профессий, лица без всяких профессий и лица самых разнообразных профессий – музыкант, артист, чистильщик сапог, рабочий и пр. и пр.
Так же разнообразна их заинтересованность в этом деле, что видно даже из того, что трибунал, приговоривший десять человек к высшей мере наказания, двадцать двух оправдал, признав вину их недоказанной; ряд лиц были приговорены к легким наказаниям, которые с избытком покрывались предварительным заключением... Среди обвиняемых несколько человек преклонного возраста, группа подростков 18–19 лет, ряд лиц с физическими недостатками: один глухой, другой заика, третий эпилептик; одного суд не оправдал, а “освободил от наказания в силу его физического недоразвития, отразившегося на душевных способностях”; защитник одного из подсудимых сделал заявление, что его подзащитный тяжело болен, но про характер болезни, “щадя своего доверителя”, умолчал. Из числа женщин некоторые производят впечатление кликуш. Про одну обвинитель сказал: “Ее дело по свадьбам бегать”.
В то время как все первые персонажи с неослабным напряжением следили за процессом на всем его протяжении, персонажи второстепенные относились к нему различно: одни сохранили внимание в течение всех трех недель; другие – быстро утратили к нему интерес и, видимо, скучали: когда объявлялся короткий перерыв и их не выводили из зала, они вступали в пререкания с начальником конвоя; когда же выводили – поспешно покидали свои места и торопились выйти из зала. “В тюрьме веселей” – донеслась однажды глумливая фраза из этой группы, утомившейся длинной судебной процедурой, однообразием допросов, той тишиной, которая царила в зале заседания.
Из среды публики многих также, видимо, утомила длительность процесса, интерес к нему слабел. Первые дни зал был переполнен, места на стульях брались с бою и занимались задолго до заседаний. А затем ряды публики редели. И только родственники и близкие подсудимых упорно, каждое заседание, были на своих местах. К моменту прения сторон наплыв публики снова увеличился. Интересно отметить, что представителей духовенства среди публики было всего несколько человек – не больше десятка. Было несколько лиц со знакомым по прежним процессам дореволюционного времени отпечатком – “судебных дам” и завсегдатаев судебных разбирательств.
Многие чувствовали себя “как дома”: приходили с завтраками, просматривали во время “неинтересных моментов” газеты, а одна почтенного возраста дама (говорили, что мать Коллонтай), занимавшая в первом ряду место, вязала чулки и, вероятно, связала не одну пару...
Во время перерывов родственники подсудимых толпились около конвоя с “передачами” – мешочками, кулечками, свертками, стаканами чая, со всем тем, что так радостно волнует, как весть “с воли”, как трогательный знак внимания близких, что так мило, дорого и знакомо всем, побывавшим в тюрьмах...
Кулуары шумны и оживленны и опять-таки по характеру своему напоминают кулуары прежних, дореволюционных процессов; не мелькают разве только фраки защитников, не видно чинов судебного ведомства с их своеобразным отпечатком на лицах, с особой “судейской выдержкой”.
Публика обсуждает различные моменты судебного разбирательства, но как-то осторожно, опасливо, разбиваясь на группы, нередко с видом заговорщиков. Интересно отметить, что приговор был предсказан более или менее верно. К мотивам преступления – противодействию изъятию ценностей – большинство раздававшихся голосов относилось с осуждением.
Пусть даже не было организованного противодействия, пусть даже самое противодействие остается под сомнением, но высшая церковность виновата перед церковью, перед духом христианства в том, что не использовала те возможности, которые открывались перед ней в связи с оказанием помощи голодающим. Не проявив в этом деле своей достаточной инициативы, она не встретила должным образом ту инициативу, которая была ей дана со стороны.
Эти мысли высказывались вслух. Что думали молчаливые одиночки, о чем они говорили, тихо склонившись друг к другу,– история может только строить догадки.
Иначе вела себя толпа у дверей филармонии в первые дни процесса. В ее глазах подсудимые – мученики, герои идеи православия и христианства.
Ядро этой толпы – ревнители церковности, верующие, фанатики, большинство которых женщины. Они свободно делятся друг с другом мыслями, впечатлениями; на совершающееся смотрят как на чудовищное преступление, как на открытое гонение и поругание церкви, как на неизбежный при всех подобных случаях признак приближения “последних времен”. Лишенные доступа в зал заседаний, они чутко ловят обрывки сведений, которые приходят оттуда, жадно хватают и передают друг другу слухи, и эти слухи создают целые инциденты, на самом деле в здании суда никогда не бывшие. Слышатся, конечно, нападки на Советскую власть и даже не на Советскую власть, а просто “на них”. Они – это, конечно, большевики, коммунисты.
К ядру “ревнителей” присоединяются толпы любопытных, просто прохожих. И в первые дни процесса эти толпы достигли внушительных размеров, особенно после нападения на протоиерея Введенского [12], весть о котором быстро разнеслась по городу.
Еще до нападения имя протоиерея Введенского вызывало раздражение. Его почему-то считали чуть ли не главным виновником процесса, изменником, перебежчиком, предателем своих близких. Характерно, что нападки на Введенского особенно ожесточенными были со стороны тех, кто еще недавно, по их собственному признанию, числился в рядах его поклонников и поклонниц. Их особенно раздражало то, что Введенский, в их представлении, обманул их доверие и веру в него как пастыря, следующего по заветам Христа...
Неудивительно, что появление Введенского среди этой толпы было встречено криками, упреками, угрозами, бранью. Какая-то женщина схватила с мостовой камень и с силой ударила им по голове протоиерея, причинив ему серьезные повреждения. Это лишило его возможности участвовать в процессе.
Женщину арестовали.
На другой день после этого настроение толпы было особенно возбужденное. Попытки курсантов к ее рассеянию не дали результатов, и вскоре произошло нечто вроде религиозной демонстрации, которая окончилась оцеплением района караулом и массовыми арестами. Толпу арестованных под усиленным конвоем отвели в тюрьму, что на Шпалерной улице, и там была произведена поверка документов. Среди арестованных оказалось несколько лиц, предъявивших партийные билеты (РКП), и иностранных подданных. Их, как и большинство из толпы, попавших в оцепление случайно и имеющих удостоверения личности, отпустили тотчас после поверки документов. Лица, у которых документов не оказалось, были временно задержаны.
После этого организованно действующая охрана препятствовала скоплению публики на Михайловской площади, а к моменту вывода подсудимых квартал до Невского оцеплялся конной стражей, и движение по нему прекращалось.
Отдельные группы, тем не менее, ждали этого момента часами, разместившись в сквере и на прилегающих к филармонии улицах.
Арестованных выводили из боковых дверей и усаживали на грузовики-автомобили – человек по 20 сразу. Затем автомобиль в сопровождении конной стражи полным ходом мчался по направлению к тюрьме.
|
|