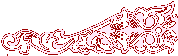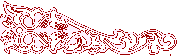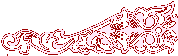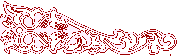Глава четвертая.
Допрос остальных подсудимых. – Хищение ценностей в институте глухонемых. – Изъятие в церквах: при консерватории, при больнице и др. – Обвиняемые в беспорядках.
Трибунал переходит к опросу отдельных групп подсудимых, обвиняемых по 72, 73, 77, 86, 150, 180 и 185 статьям уголовного уложения. Из них много времени уделяется группе, обвиняемой в хищении и сокрытии ценностей в церкви института глухонемых. Сущность дела по их показаниям вкратце сводится к следующему:
В декабре 1921 г., до опубликования декрета об изъятии ценностей, директор института Янковский, ввиду тяжелых материальных условий, в которых был институт, предложил ценности находящейся при институте церкви обратить в пользу института. Церковный совет, а затем хозяйственный комитет решили произвести изъятие. Из церкви была взята часть ценных предметов и перенесена в клубное помещение и в класс. Затем, когда церковь была опечатана, из смежного с церковью помещения были взяты ризы с икон, для чего внутренняя задвижка двери была открыта ножичком. Всего, таким образом, было взято около 9 пудов серебра (обвинительный акт говорит о сокрытии и хищении 15 пудов). О нем комиссии по изъятию ценностей не было заявлено, и его обнаружили только по обыску. Сокрытие было произведено “в семейном порядке”; никаких актов или описей не было составлено. Когда явилась комиссия по изъятию, ею в церкви было обнаружено лишь 3 фунта серебра.
Подсудимый Дымский, старый священник, говорит, что совет настоял на изъятии. Он священствует в институте 34 года; ему каждая вещь особенно дорога. Но необходимость заставила обратить эти вещи в деньги, потому что 198 детей буквально голодали, выбирали из помоек и выгребных ям картофель и другие отбросы и ели.
Церковь была опечатана 27 февраля, но все ценности были вынесены еще до опечатания, а уж затем, чтобы взять их, пришлось открыть дверь ножичком. Подсудимый сам был только свидетелем того, как открыли задвижку ножичком, этому не препятствовал, потому что это делалось по распоряжению директора. Когда брались ценности, он светил свечкой.
– Это было произведено ночью?
– Нет, вечером. Об этом все знали и действовали открыто.
Председатель и стороны много времени потратили на то, чтобы выяснить, принадлежало ли помещение, которое открыли, церкви и было ли оно опечатано.
Священник Дымский и другие привлеченные к этому делу заявляли, что это помещение, которое называлось “зальцем”, было только смежное с церковью, опечатанию оно не подвергалось, дверь, которую они открыли, была известна лицам, производившим опечатание, и они не находили нужным ее опечатать. В открытом ножом зальце был сложен всякий хлам, в него священник Дымский, нуждаясь в помещении, поставил свой рояль и др. вещи.
– Инвентарная книга имущества церкви имелась?
– Да. Имелась.
– Вы списали изъятые ценности?
– Я просто карандашом их отметил, сделал крыжики (крестики.– Ред. ). Вообще, сделано было все запросто, без формальностей.
– Вы знали, что это незаконно?
– Да. Можно предполагать. Но тогда и в голову не приходило.
Допрашивается директор института Янковский. Он работал в институте 24 года, ввел ряд новых методов обучения глухонемых и вообще отдал этой работе все свои силы и способности.
– Когда в институте создалось материальное затруднение, дети голодали, а помещения пришлось отапливать классной мебелью, были созваны родители и им было заявлено о возможности закрытия института. Учащиеся - дети рабочей я крестьянской бедноты. Родители умоляли не закрывать института: обещали помощь, чтобы только им не возвращали детей. Было сделано обращение к родителям, большинство которых жили в других городах и деревнях, о материальной поддержке института, но это не дало результата. Тогда возникла мысль о реализации ценностей и я внес это предложение, которое и было принято.
Подсудимый заявляет, что никакого хищения не было и не могло быть, потому что действовали совершенно открыто. Об изъятии знали все служащие и преподавательский персонал.
Подсудимый Дубровицкий заявляет, что задвижку ножичком отодвинул он, снял с икон ризы, которые потом и были перенесены в клубное помещение и в класс. Он не считал, что, открывая задвижку, совершает преступление, так как зальце не было опечатано. Состоя в должности заведующего хозяйственной частью, он считал, что имеет право проникнуть в зальце, больше того, при исполнении распоряжения Янковского он обязан был это сделать.
О том, что расхищения быть не могло, что изъятие совершалось открыто, свидетельствуют и ктитор церкви Зальман, и преподаватель Емельянов.
По делу об изъятии ценностей из церкви консерватории допрашиваются подсудимые: священник Толстопятов, бывший морской офицер, и ктитор церкви профессор по классу фортепиано Ляпунов. Они протестовали против опечатания церкви, причем Ляпунов призывал на голову комиссии “кару Божию”. На суде они показали, что ключи от церкви не были отданы комиссии, потому что она не представила соответствующего мандата на это, и их протест вызван был лишь недостаточной выясненностью формальной стороны дела. По формальным же соображениям Ляпунов отказался подписать акт об изъятии.
На формальной почве произошел, инцидент при больничной церкви. Так, по крайней мере, заявляют привлеченные по этому делу священник Ливенцов и врач Соколов. Их спор с комиссией привлек толпу больных, и произошла сумятица, шум, крики.
Соколова сверх того обвиняют в том, что толпа больных явилась по его зову, что он не успокаивал толпу, а, наоборот, возбуждал ее и еще раньше им была подписана бумажка об оставлении ценностей при церкви.
Оба подсудимые вину свою отрицают. Пререкания с комиссией были, но не на почве нежелания отдать ценности, а именно из-за формальных недоразумений. Соколов бумажку подписал за отсутствием председателя церковного совета.
Священник Скорбященской церкви Никиташин, обвиняемый в распространении писем митрополита, заявил, что письма эти он нашел в алтаре. Как туда они попали, он не знает.
Аналогичное заявление сделал священник Акимов. Он также не знает, каким образом попали письма к нему в алтарь.
Священник Флеров заявил, что письма митрополита огласил в церкви с целью подготовить верующих к изъятию и успокоить их на тот счет, что изъятие будет производиться с соблюдением требований, выставляемых митрополитом.
Священнику Ивановскому вменяется в вину председательствование в приходском совете, на котором были оглашены письма митрополита и было решено, что если не будет дозволено существование, по оказанию помощи голодающим, самостоятельной церковной организации, то ценностей не отдавать.
Подсудимый заявляет, что в этом вопросе миряне оказались правее духовенства, а самый протокол, им подписанный, был составлен в неудачной редакции.
Священник Соколов, которого обвиняют в агитации в толпе и ставят в вину его фразу о том, что “большевикам скоро будет конец”, заявляет, что все обвинения его – плод недоразумения, а инкриминируемая фраза – злая ирония. Он, напротив, убежден и говорил, что большевики теперь сильнее, чем когда-либо, и с каждым днем крепнут. Про него говорят, что он – социалист-революционер. Но он не только не принадлежал ни к каким партиям, но говорил всегда, что духовенство не должно заниматься политикой. На этом основании при выборах в Государственную Думу он сам ни за кого не голосовал и другим лицам в сане священника этого делать не рекомендовал.
Заведующая 29 убежищем престарелых Черняева заявляет, что она вступила в пререкания с членами комиссии по изъятию потому, что среди них не было того лица, которое опечатало церковь убежища, а, по ее представлению, открыть церковь и снять печати мог только тот, кто ее запечатал. Она боялась ответственности.
– И подняли шум, на который сбежались призреваемые?
– Я не шумела, но волновалась.
– А истерику закатили?
– Нет. Просто была нервно расстроена.
– Быть может, истерика все-таки была? – допытывается защита.
– Если вы нервное расстройство считаете истерикой, то я и сейчас могу в нее впасть.
– Садитесь,– прекращает допрос председатель. Начинается допрос лиц, задержанных в толпе во время беспорядков.
Студент Антонов, задержанный 24 апреля на Невском, близ Казанского собора, заявляет, что он зашел в собор помолиться.
– Приложившись к особо чтимой иконе Казанской Божьей Матери, я, по выходе, увидел несколько старушек. Я люблю разговаривать со старыми людьми и вмешался в их разговор. Потом был арестован.
– О чем же вы разговаривали?
– Разговор шел об изъятии. Я сказал, что ценности жаль отдавать: сколько лет их скапливали отцы и деды.
– А о сопротивлении вы говорили?
– Нет. Следователю я заявил, что если бы Богу было угодно, я бы отдал безропотно свою жизнь, и что если я не буду жить по воле Бога, то вообще моя жизнь не дорога. До меня доходили слухи о том, что являющиеся для изъятия ценностей даже не снимают шапок, и следователю я сказал, что, если бы это случилось при мне, я встал бы перед иконой, с которой хотят снять ризу, и загородил бы ее своим телом. Меня оттолкнули бы, но я, не оказывая сопротивления силой, снова встал бы.
– Вы против изъятия?
– В принципе – за. Но мне казалось, что еще не все меры помощи голодающим исчерпаны, а изъятие должно быть крайней мерой.
– Вы верующий?
– Да. Я так воспитан с детства.
Зато целый ряд последующих подсудимых заявляют, что они или нерелигиозны, или совершенно равнодушны к церкви и изъятию и задержаны в толпе случайно. В толпу попали из любопытства.
Козеинов говорит, что он нерелигиозный.
– Для меня все равно, будут ли в церкви ценности или нет. Мною они не создавались, отцы и деды мои также их не создавали – какой мне в них интерес?
Арестовали его, как он говорит, “какие-то дети”.
– Что вам известно по этому делу? – спрашивает председатель Филатова.
– Ничего не известно. Меня лично изъятие не касается, поэтому оно меня и не интересует.
Подсудимый Гурьянов к церкви равнодушен и в нее не ходит.
Абдамов (армянин) заявляет, что в эту церковь, близ которой он задержан, попал первый раз.
– В какую же вы ходите?
– В разные. Когда в русскую, когда в армянскую, когда в греческую.
– Вы кого-нибудь били?
– Даже не видал.
– Как относитесь к изъятию?
– Раз наше правительство сказало, что нужно изъять – пожалуйста бери.
– Вы какой национальности?
– Чистильщик. Сапоги на углу чистим.
– Откуда приехали?
– Из Персии. Нас там немного резали. Совсем зарезали...
О своей нерелигиозности говорит и подсудимый Кравченко, музыкант по профессии: перед арестом у Казанского собора он только выразил сожаление, что ценности будут изъяты, так как они представляют из себя ценность историческую.
Бывший красноармеец Семенов заявляет, что за 5 лет ни разу не ходил в церковь. Он попал в толпу случайно, никаких мнений не высказывал, только разгонял ребят, которые безобразничали у церкви. Тем не менее, был арестован и при аресте оказал сопротивление, оторвав у милицейского полу шинели.
– Зачем же вы это сделали?
– Он стал ломать мне руки. А я – больной, со мной бывают припадки. К тому же он выстрелил.
– Призывали на помощь?
– Нет,– отвечает подсудимый. Он производит действительно впечатление больного и на вопрос защиты отвечает, что его отец в припадке умопомешательства утопился.
18-летний Сенюшкин заявляет, что у Знаменской церкви говорили много нелепого о том, что ценности пойдут на золотые зубы комиссарам. Поэтому он там сказал, что лучше бы было, если бы правительство и духовенство пришли к какому-нибудь соглашению, тогда не было бы этого безобразия.
Студент Высокоостровский заявляет, что он верующий, религиозный. Попал в толпу из-за любопытства и там высказал соображение, что хорошо бы было, если бы верующих допустили в комиссию по изъятию ценностей.
– Вы с духовенством хорошо знакомы?
– Я теперь знаком хорошо. В тюрьме познакомился...
Артист Миронов, тоже верующий. В толпе сказал, что все было бы лучше, если бы само духовенство произвело изъятие.
Допрос остальных подсудимых этой группы представляет из себя такую же пеструю смену лиц, возрастов, социального положения и полов. Все они или высказывали в толпе различные взгляды на ценности, или, по их заявлениям, были арестованы по ошибке. Почти все они заявляют, что попали в толпу движимые обычным в таких случаях любопытством.
И из этой серии подсудимых не было никого, кто заявил бы себя противником изъятия ценностей.
Допрос подсудимых окончился.
Трибунал приступает к допросу свидетелей, которые вызваны по этому делу в числе 42-х. Часть их не явилась. Ни защита, ни обвинение не настаивают на их разыскании или приводе.
|